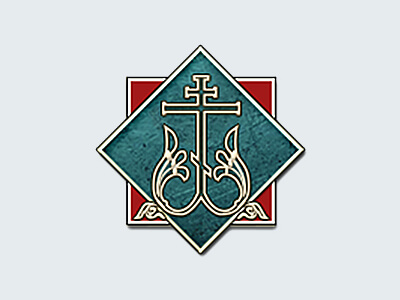Сайт «Православие.Ру» продолжает публикацию фрагментов новой книги церковного историка и канониста протоиерея Владислава Цыпина «История Европы дохристианской и христианской».
 III Вселенский собор После смерти преемника Аттика Сисиния, занимавшего Константинопольский престол в течение двух лет – до своей кончины в конце 427 года, местными кандидатами на вдовствующую столичную кафедру были, как и на предыдущих выборах, два знаменитых в городе пресвитера – Прокл и Филипп, но возникли опасения, что поставление одного из них может вызвать ревность и противостояние со стороны почитателей другого кандидата. Поэтому им обоим вновь, как это было в случае со святым Иоанном Златоустом, предпочли знаменитого своим красноречием антиохийского пресвитера Нестория, по происхождению сирийца. Его дед переселился из Персии в Самосату, входившую в Римскую империю, еще язычником, но затем крестился.
III Вселенский собор После смерти преемника Аттика Сисиния, занимавшего Константинопольский престол в течение двух лет – до своей кончины в конце 427 года, местными кандидатами на вдовствующую столичную кафедру были, как и на предыдущих выборах, два знаменитых в городе пресвитера – Прокл и Филипп, но возникли опасения, что поставление одного из них может вызвать ревность и противостояние со стороны почитателей другого кандидата. Поэтому им обоим вновь, как это было в случае со святым Иоанном Златоустом, предпочли знаменитого своим красноречием антиохийского пресвитера Нестория, по происхождению сирийца. Его дед переселился из Персии в Самосату, входившую в Римскую империю, еще язычником, но затем крестился.
Несторий родился в Кесарии Германикийской, там получил первоначальное образование, которое продолжил в Афинах. Затем он перебрался в Антиохию, где посещал уроки в школе Либания, в которой до него учился Иоанн Златоуст. Выйдя из школы, он поступил в расположенный близ Антиохии Евпрепийский монастырь, принявшись там за изучение Библии и творений отцов, но, по словам его биографа Амадея Тьерри, «Несторий не любил ни умерщвления плоти, ни лишений бедности, из которых с ранней поры жизни он вынес слишком горький опыт… Что же касается толкований отцов, то они оттолкнули своей сухостью: живой, подвижный, но поверхностный ум неофита вовсе не был расположен к продолжительным и серьезным работам; его гением было ораторское искусство… в том его виде, в каком оно культивировалось тогда на форумах городов или в стенах церквей. К тому же он обладал величавой осанкой, полным и звучным голосом и природным даром слова; от природы бледное и сухое лицо его, светлый и глубокий взгляд придавали всей его фигуре нечто такое, что во все времена считалось принадлежностью оратора»[1]. «Наружности он был… благообразной и довольно приятной. Небольшого роста, но с большими выразительными глазами и светло-рыжеватой шевелюрой»[2]. В священный сан Нестория посвятили монахом. Назначенный катехизатором, он скоро прославился проповеднической ревностью и даром слова, благодаря которому о нем узнали в имперской столице. Правда, по словам его современника Маркелла, «он имел достаточно красноречия, но мало рассудительности»[3]. По своему характеру это был человек, склонный к решительным действиям, но не всегда сообразуясь с реальной оценкой своих сил. Учителем Нестория в богословии был епископ Мопсуестийский Феодор. «Одно сирское житие, – по словам А.В. Карташева, – рассказывает, что Феодор, как профессор школы, хорошо знавший своего ученика Нестория, по случаю вызова Нестория в Константинополь напутствовал его и призывал быть умеренным и сдержанным»[4], но наставление это, как оказалось впоследствии, не было воспринято.
В слове, произнесенном Несторием 10 апреля 428 года при своем поставлении в архиепископы столицы, он, обращаясь к императору Феодосию, притязательно заявлял: «Царь!.. Дай мне землю, очищенную от ересей, – и я за то дам тебе небо; помоги мне истребить еретиков – и я помогу тебе истребить персов»[5]. Комментируя столь самоуверенное высказывание, Сократ резонно заметил: «Хотя некоторые простые люди, питавшие ненависть к еретикам, приняли произнесенные им слова с удовольствием, но от людей, умевших по словам заключать о качествах души, не укрылись… ни его легкомыслие, ни вспыльчивость, ни тщеславие… Не отведав еще, как говорится, и городской воды, уже объявил себя жестоким гонителем»[6]. И уже в первые дни своего пребывания на столичной кафедре Несторий настоял на принятии императором крутых мер по отношению к македонянам, новацианам, евномианам, монтанистам и четыренадесятникам. Он распорядился закрыть единственную арианскую церковь в Константинополе, находившуюся, впрочем, за городской стеной. Прихожане пытались силой защитить ее, но были изгнаны из нее вооруженной рукой и в отчаянии подожгли свой храм – пожар перекинулся на соседние строения, и выгорел целый квартал. После этого инцидента злые и острые языки прозвали Нестория «поджигателем». А преподобный Иоанн Кассиан по поводу такой ревности Нестория впоследствии, когда ему пришлось заняться опровержением его заблуждений, саркастически заметил: «Несторий… заблаговременно принял меры, чтобы не существовало на свете других ересей, кроме его собственной»[7].
Но «поджигателем» в фигуральном значении слова он стал, когда его синкел Анастасий, которого он привез с собой из Антиохии, в одной из проповедей к изумлению и ужасу своих слушателей высказался против именования Девы Марии Богородицей (Феотокос), прибегнув к аргументу, казалось бы, тривиальному и очевидному: не могло тварное создание родить превечно сущего Бога, но при этом отчасти рискованному и сомнительному, состоявшему в разделении Сына Человеческого, родившегося в Вифлееме, и Сына Божия на два различных субъекта, не говоря уже о том, что этот бесшабашный выпад задел и ранил религиозные чувства благочестивых христиан, давно уже молившихся Деве Марии под именем Богородицы. Обеспокоенный народ ожидал реакции со стороны самого Нестория. И эта реакция, которая не замедлила последовать, усугубила озабоченность встревоженной паствы.
 Святитель Прокл В разгоревшейся полемике церковную традицию именовать Деву Марию Богородицей с особой ревностью и богословской убедительностью отстаивал святой Прокл, один из ближайших учеников Иоанна Златоуста. Поставленный на Кизическую кафедру, он не выехал в Кизик, и туда был направлен другой епископ – Далмаций, а Прокл, имея епископский сан, исполнял в столице пресвитерские обязанности. В одной из своих праздничных проповедей он с особым акцентом назвал Пречистую Деву Богородицей и затем, разъясняя уместность такого Ее именования, сказал: «Родившийся от Жены не есть только Бог и не есть только человек: этот родившийся соделал жену, древнюю дверь греха, дверию спасения… Мы веруем, что Христос не чрез постепенное восхождение к божественному естеству сделался Богом, но, будучи Бог, по Своему милосердию сделался человеком. Не говорим: человек сделался Богом – но исповедуем, что Бог воплотился»[8].
Святитель Прокл В разгоревшейся полемике церковную традицию именовать Деву Марию Богородицей с особой ревностью и богословской убедительностью отстаивал святой Прокл, один из ближайших учеников Иоанна Златоуста. Поставленный на Кизическую кафедру, он не выехал в Кизик, и туда был направлен другой епископ – Далмаций, а Прокл, имея епископский сан, исполнял в столице пресвитерские обязанности. В одной из своих праздничных проповедей он с особым акцентом назвал Пречистую Деву Богородицей и затем, разъясняя уместность такого Ее именования, сказал: «Родившийся от Жены не есть только Бог и не есть только человек: этот родившийся соделал жену, древнюю дверь греха, дверию спасения… Мы веруем, что Христос не чрез постепенное восхождение к божественному естеству сделался Богом, но, будучи Бог, по Своему милосердию сделался человеком. Не говорим: человек сделался Богом – но исповедуем, что Бог воплотился»[8].
Несторий в этом споре между Анастасием и Проклом встал на сторону своего синкела и объявил, что самым приемлемым именованием Пречистой Девы должно быть Христородица: называть Ее Богородицей абсурдно, потому что Она Сама, как и весь человеческий род, сотворена Богом и потому не может быть Ему Матерью, а имя «Христос» объемлет и божественную, и человеческую природу Спасителя. Сказано это было в канун Рождества Христова – 24 декабря 428 года. В этом своем выступлении Несторий обрушился с обвинениями и угрозами на тех константинопольских клириков, которые, как он считал, по своему богословскому невежеству сеют смуту в церковном народе, а его единомышленник епископ Маркианопольский Дорофей довел возникшее в церковной среде напряжение до крайней остроты, провозгласив анафему тем, кто именует Святую Деву Богородицей. Но именно так называл Ее в своих творениях святой Григорий Богослов, и, конечно, не он один из прежних отцов: такое Ее именование можно найти в сочинениях Оригена и Евсевия Памфила. Противник Нестория Евсевий, в ту пору еще мирянин и схоласт, то есть юрист, а позже епископ Дорилейский, обвинил его в том, что, будучи земляком Павла Самосатского, он повторяет его учение. Такая оценка не была адекватной. Павел отрицал божество Иисуса Христа и вместе с этим учение о Божественной Троице, впав в монархианскую ересь. Расхождение Нестория с его оппонентами не затрагивало тринитарный догмат, а относилось к христологической теме, иными словами – к вопросу об образе соединения божественной и человеческой природы в Иисусе Христе. Несторий не сомневался в бытии и полноте божества Сына Божия, или Бога Слова, и поэтому не разделял заблуждений ни Павла Самосатского, ни Ария, но он иначе, чем его богословские противники, отвечал на ключевой христологический вопрос – о Боговоплощении.
Вполне оригинальным богословом Несторий не был. Он лишь в заостренном и провоцирующем виде высказывал христологические идеи, которые были выработаны в лоне антиохийской богословской школы. Своими учителями он считал не только Феодора Мопсуестийского, но и Диодора Тарсийского – одного из соратников Василия Великого в эпоху противостояния арианской ереси. А из числа современников Нестория долго поддерживали не только Ива Эдесский, но и не разделявшие крайностей его богословия Иоанн Антиохийский и блаженный Феодорит Кирский, в ту пору самый авторитетный из богословов Востока. Диодор Тарсийский, по меткой и глубокой характеристике протоиерея Георгия Флоровского, «не только подчеркивал “совершенство” (то есть полноту) человечества во Христе – он резко различал и обособлял во Христе Сына Божия и сына Давидова, в котором Сын Божий обитал, как в храме… Поэтому он считал невозможным говорить о “двух рождениях” Слова. “Бог Слово не претерпел двух рождений: одно прежде веков, а другое напоследок, но от Отца Он родился по естеству, а того, кто рожден от Марии, Он уготовал Себе в храм”… Бог Слово не рождался от Марии – от Марии родился только человек, подобный нам… Диодор отрицает, будто вводит “двоицу Сынов” – Сын Божий один, а воспринятая им плоть, “или человек”, есть Его храм и обитель… Здесь важны не столько отдельные слова и речения – характерен самый стиль и внутренняя тенденция мысли. И в изображении Диодора лик Иисуса Христа несомненно двоился»[9].
Следующий шаг в опасном направлении сделан был прямым учителем Нестория Феодором Мопсуестийским, который «со свойственной ему рассудочной прямотой» соединение рожденного от Марии «совершенного человека» и Бога Слова определял «как вселение Слова, как связь или соотношение. Ему кажется, что нельзя понимать буквально: “Слово плоть бысть” – это было бы “отчуждением от Его естества и низведением Его к низшим существам”. “Стал”, по мнению Феодора, может означать только “казался” – “поскольку казалось или являлось, Слово соделалось плотью”…»[10]. Рожденный от Марии в его интерпретации имел не только иную, чем Бог Слово, природу, но и Свою особую ипостась. Христос, считал он, «подобно всем людям, возрастал – возрастал и телом, и душой. Возрастал и в познании, и в праведности… Он боролся, преодолевая страсти и даже похоти. И в этом Ему содействовал Дух “Своими нравственными влияниями”… Феодор предполагал, что Божество отделилось от Христа во время смерти, “так как Оно не могло испытывать смерти. Совершенно ясно, – резюмирует русский патролог, – что Феодор резко различает “двух субъектов”»[11]. Представляя образ соединения Сына Божия и сына Давидова, Феодор прибегал к образу брачного союза мужа и жены.
Христологические формулы антиохийского богословия, заостренные в сторону подчеркивания полноты человеческой природы во Христе, явились реакцией на учение Аполлинария, отвергавшего присутствие во Христе человеческого ума или духа и тем самым впадавшего в давно отвергнутый Церковью гностический докетизм. Антиохийцы дорожили идеей полноты человечества во Христе, Его единосущия человеческому роду, справедливо придавая этому обстоятельству сотериологическое значение, но при этом рисковали перегнуть палку в противоположную сторону, превращая в призрак единство лица во Христе и прямо отвергая Его ипостасное единство. Патрологи находят разные причины подобного уклонения, в частности семитический склад мысли приверженцев этой богословской традиции и в связи с этим склонность к впадению в то, что было в свое время названо иудеохристианством, – в идиосинкразию к мысли о каком бы то ни было сближении абсолютно трансцендентного Божества с тварным человеком; а с другой стороны – и, похоже, это более солидный диагноз, – приверженность антиохийской богословской школы (в отличие от александрийской, использовавшей философский аппарат платонизма и неоплатонизма) аристотелевской философии с ее тенденцией к логической однозначности терминов, с ее отрицанием онтологической реальности материи без формы, из чего вытекает идея о призрачности не ипостасированной сущности – для христианского богословия из этого постулата выводилась неприемлемость представления полноты человечества во Христе без Его собственной человеческой ипостаси, которая входит в соединение с ипостасью Слова, и хотя антиохийцы готовы были обозначать такое единение единством лица, но у их оппонентов все равно возникало подозрение, что речь идет о двух Сынах – Сыне Божием и Сыне Человеческом – как о разных субъектах.
Феодор Мопсуестийский изложил свои мысли в систематизированном виде в книге «О воплощении». Несторий, не будучи самостоятельным богословом, тем более систематиком, выступил как популяризатор этих идей, причем ради вящего эффекта он не удерживался от рискованных, соблазнительных формулировок. Не способный реально оценить ситуацию и перспективы разрешения разгоревшихся споров, отличаясь избыточной самоуверенностью, Несторий, когда к нему пришла депутация его оппонентов для того, чтобы продолжить дискуссию и услышать его контраргументы на свои недоумения, не захотел с ней вести разговор, а вместо этого распорядился заточить оппонентов за неповиновение своему епископу в тюрьму, где их подвергли бичеванию.
 Святитель Кирилл Александрийский Жалобы и возмущение константинопольских противников Нестория, в том числе и пострадавших от него, дошли до Александрии, и предстоятель Александрийской Церкви святой Кирилл решил вмешаться в развитие событий, потрясших церковную жизнь имперской столицы. Он обратился к Несторию с посланием, в котором, пока еще в деликатной форме, не обвиняя прямо своего адресата, выразил свою озабоченность тем, что «некоторые дошли до того, что не хотят исповедовать Христа Богом, а исповедуют Его органом или орудием Бога и человеком богоносным и еще что-то нелепее этого»[12]. Не вынося категорического суждения о причастности к обозначенной им ереси самого Нестория, святитель дает ему ясно понять, что дело принимает нешуточный оборот, что наступает время исповеднического стояния за истину: «Да не усомнится твое благочестие, что мы за веру во Христа готовы терпеть все, подвергнуться узам и самой смерти»[13]. В ответном послании Несторий не захотел обсуждать вызвавшие споры и взаимные обвинения сторон богословские темы по существу, ограничившись укором Кириллу в недостатке любви: «…с нашей стороны, несмотря на то, что от твоего благочестия надобно сказать ласковее – многое сделано не по братской любви, надобно было написать приветственное письмо в духе терпения и любви»[14]. По существу дела Несторий отвергал право Александрийского архиепископа вмешиваться в дела, относящиеся к Церкви Константинопольской. Живое участие Кирилла в споре, который разгорелся в столице империи, очевидно, напомнило ему о противостоянии, которое имело место двумя с половиной десятилетиями раньше, когда против святого Иоанна Златоуста, выходца, как и Несторий, из Антиохии, выступил предстоятель Александрийской Церкви тех лет – родной дядя Кирилла Феофил; свой спор с Кириллом Несторий с этих пор осмысливал в параллель с противостоянием Иоанна и Феофила, и в таком восприятии происходящего солидарны с ним были и другие епископы Востока – едва ли не большинство из них, в том числе и те, кто не разделял очевидных заблуждений Нестория. Но это была ложная параллель, которая заводила Нестория в тупик: в споре между святителем Иоанном и Феофилом богословские темы не были затронуты всерьез, а на этот раз речь шла о самом существе веры.
Святитель Кирилл Александрийский Жалобы и возмущение константинопольских противников Нестория, в том числе и пострадавших от него, дошли до Александрии, и предстоятель Александрийской Церкви святой Кирилл решил вмешаться в развитие событий, потрясших церковную жизнь имперской столицы. Он обратился к Несторию с посланием, в котором, пока еще в деликатной форме, не обвиняя прямо своего адресата, выразил свою озабоченность тем, что «некоторые дошли до того, что не хотят исповедовать Христа Богом, а исповедуют Его органом или орудием Бога и человеком богоносным и еще что-то нелепее этого»[12]. Не вынося категорического суждения о причастности к обозначенной им ереси самого Нестория, святитель дает ему ясно понять, что дело принимает нешуточный оборот, что наступает время исповеднического стояния за истину: «Да не усомнится твое благочестие, что мы за веру во Христа готовы терпеть все, подвергнуться узам и самой смерти»[13]. В ответном послании Несторий не захотел обсуждать вызвавшие споры и взаимные обвинения сторон богословские темы по существу, ограничившись укором Кириллу в недостатке любви: «…с нашей стороны, несмотря на то, что от твоего благочестия надобно сказать ласковее – многое сделано не по братской любви, надобно было написать приветственное письмо в духе терпения и любви»[14]. По существу дела Несторий отвергал право Александрийского архиепископа вмешиваться в дела, относящиеся к Церкви Константинопольской. Живое участие Кирилла в споре, который разгорелся в столице империи, очевидно, напомнило ему о противостоянии, которое имело место двумя с половиной десятилетиями раньше, когда против святого Иоанна Златоуста, выходца, как и Несторий, из Антиохии, выступил предстоятель Александрийской Церкви тех лет – родной дядя Кирилла Феофил; свой спор с Кириллом Несторий с этих пор осмысливал в параллель с противостоянием Иоанна и Феофила, и в таком восприятии происходящего солидарны с ним были и другие епископы Востока – едва ли не большинство из них, в том числе и те, кто не разделял очевидных заблуждений Нестория. Но это была ложная параллель, которая заводила Нестория в тупик: в споре между святителем Иоанном и Феофилом богословские темы не были затронуты всерьез, а на этот раз речь шла о самом существе веры.
В начале 430 года Кирилл обратился к Несторию со вторым посланием, в котором изложил свою веру, свою христологию, которую он не без оснований отождествлял с верой Церкви, с ее Священным Преданием: «Бог Слово воплотился и вочеловечился. Мы не говорим, что естество Слова, изменившись, стало плотию, ни того, что оно преложилось в целого человека, состоящего из души и тела; но говорим, что Слово, соединив с Собою в единстве лица тело, одушевленное разумною душою, – неизреченно и непостижимо для нашего ума – стало Человеком, сделалось Сыном Человеческим, не волею одною и благоизволением, не восприятием только лица; а говорим, что естества, истинно соединенные между собою, хотя различны, но в соединении обоих сих естеств есть один Христос и Сын. Это мы представляем не так, что в сем соединении уничтожилось различие естеств, но Божество и человечество, при неизреченном и неизъяснимом соединении, пребыли совершенными, являя нам единого Господа Иисуса Христа и Сына… Так как Он ради нас и ради нашего спасения родился от жены, соединив с Собою, в Свою ипостась, естество человеческое, то поэтому и говорится, что Он родился плотию. Это не так, что прежде родился от Святыя Девы простой человек, а после сошло на Него Слово; но Оно, соединившись с плотию в самой утробе, родилось по плоти, усвоив Себе плоть, с которою родилось. Таковым же мы Его исповедуем и в страдании и в воскресении: не говорим, что Слово Бога по Своему естеству подверглось ударам, язвам гвоздинным и прочим ранам, потому что божественное естество, как бестелесное, не причастно страданию. Но так как всем этим страданиям подверглось Его тело, которое есть Его собственное, то мы и говорим, что Слово страдало за нас… Таково учение правой веры, повсюду исповедуемой. Так мыслили святые отцы, как находим в их писаниях. Они дерзновенно говорили, что Святая Дева есть Богородица не потому, что естество Слова или Божество Его началось по бытию от Святой Девы, но потому, что от Нее родилось святое тело, имеющее разумную душу; таким образом, Слово, соединившись с ним ипостасно, родилось по плоти»[15].
В ответном послании архиепископу Кириллу, написанном в высокомерном и менторском тоне, Несторий в слегка завуалированной, но прозрачной форме обвинял адресата в приверженности патрипассианской ереси: «Выслушай же и наше, братское по духу благочестия вразумление… Я хочу сказать, что ты, читая в каком-нибудь списке предание святых мужей, не сознал своего недоразумения, заслуживающего извинения, подумав, что они подверженным страданию назвали вечно пребывающее со Отцем Слово. Вникни, если тебе угодно, с большим вниманием в сказанные слова и увидишь, что божественный лик отцев не называл единосущее Божество страдавшим, соприсносущного Отцу – рожденным во времени, восставившего разрушенный храм – воскресшим»[16]. По поводу этого обвинения святой Кирилл в своем послании к константинопольскому клиру писал: «Само Слово страдало, когда страдало тело Его, так же, как говорим о человеке, что страдает душа его, когда страдает только ее тело, потому что она, по своему естеству, не подвержена страданиям»[17]. Для наглядного представления своих христологических воззрений он часто прибегал к этому сравнению образа соединения Божества и человечества во Христе с соединением души и тела в человеке. И вслед за тем святитель указывает на самую суть заблуждений своих противников, и среди них, конечно, самого Нестория: «Скрытая мысль их – допустить двух Христов и двух Сынов, из которых один есть только человек, а другой есть только Бог, и допускать соединение только лиц»[18]. Правда, прямым образом Несторий отвергал подозрение в том, что он учит о двух разных сынах. Со своей стороны он, как, впрочем, это делали и более рассудительные носители традиций антиохийской богословской школы Иоанн Антиохийский и Феодорит Кирский, в своем послании Кириллу без оснований обвинял его в приверженности аполлинарианской ереси: «Правильно и с евангельским преданием согласно исповедовать, что тело Христа есть храм божества Его, храм, соединенный с Божеством каким-то высоким, божественным союзом, в котором божественное естество усвоило себе то, что свойственно телесному. Но с словом: усвоение приписывать Ему качества тела, с Ним соединенного, каковы рождение, страдание, смерть, есть, возлюбленный брат, неправильная мысль, какую может принять только или ум еллинов, или ум, зараженный учением сумасбродного Аполлинария, Ария или других каких-либо еретиков, еще далее их заблудившихся»[19].
Несторий не услышал и не понял Кирилла, и тот ринулся в бой за святое дело – отстоять предание отцов, защитить изначальную веру Церкви. Это был сильный и закаленный борец, готовый идти до конца, не страшась возможных испытаний, и в то же время не стеснявшийся прибегать ко всем средствам, которые ему представлялись потребными в этой борьбе, в том числе и к небезукоризненным. Для Кирилла, помимо священного долга отстоять учение Церкви, немаловажное значение имело, очевидно, восходящее к его дяде Феофилу и даже еще к предшественникам Феофила Петру и Тимофею Александрийским соперничество Александрийской кафедры с Константинопольской, а ранее – с Антиохийской, за первенство в грекоязычной части империи, тем более что столичную кафедру на этот раз, как и в случае с Иоанном Златоустом, к которому Кирилл испытывал стойкую неприязнь, опять занимал антиохиец. По характеристике А. Тьерри, «Кирилл, родной племянник предшественника своего Феофила» был «воспитан и образован под непосредственным надзором своего дяди. Основные черты нравственного характера дяди заметно выдавались и в характере племянника: та же пылкая, порывистая ревность о чистоте и славе веры, то же неспокойное стремление к усилению и расширению духовного своего влияния и власти, та же горячая жажда публичной деятельности и борьбы. Сильный умом и мужественный духом, Кирилл управлял живоподвижной, волнуемой пылкими страстями своей паствой твердой, властной рукой, внушая к себе уважение, смешанное со страхом»[20]. А.В. Карташев, опираясь на древние источники, выразительно описал его внешность: «Житийное предание довольно подробно рисует нам портрет этого выдающегося из отцов и борцов. Кирилл был малого роста, но с очень ярким красочным лицом, на котором выдавались могучие, по всему лбу раскинутые брови; прямой тонкий нос, продолговатые узкие скулы, широкие властные уста, большая длинная борода и редкие курчавые светлые, с легкой сединой, волосы. Общее впечатление энергии и важности»[21].
Святитель писал и рассылал письма и к константинопольским клирикам, выступившим против своего епископа, одобряя и поддерживая их в этом их противостоянии, и к папе Римскому Целестину в стремлении поднять против Нестория самого папу и вместе с ним весь западный епископат. Через доверенных лиц он по поводу своего спора с Несторием вступил в переписку с членами императорского дома, и ему удалось убедить в своей правоте сестру Феодосия святую Пульхерию, которая, впрочем, и до того, как к ней обратился с посланием Кирилл, была озабочена и возмущена проповедями Нестория и Анастасия. Не брезговал он и такими способами достижения своей цели – низложения Нестория, – которую он отождествлял с делом всей Церкви, как привлечение на свою сторону правительственных чиновников и столичных клириков щедрыми подарками, которые на языке эпохи принято было называть евлогиями – благословениями. Некоторые из клириков Александрии сетовали потом, что церковная казна оказалась опустошенной этими расточительными евлогиями.
С посланиями к Целестину обращался тогда не только Кирилл, но и Несторий. Они оба стремились привлечь папу на свою сторону. При этом, возможно, на последующей реакции папы сказалось и то обстоятельство, что Несторий беззаботно называл Целестина своим собратом, а более искушенный Кирилл – «святейшим отцом». Благодаря этой переписке возобновились добрые отношения между Римским и Александрийским престолами, какие были в пору самоотверженной борьбы святого Афанасия за Никейский символ. И хотя каноническое общение между Церквями, разорванное при папе Иннокентии из-за гонений, которым подвергся по проискам Феофила святой Иоанн Златоуст, возобновилось раньше, когда Кирилл внес в александрийский диптих имя святителя Иоанна, но до начала солидарных действий против Нестория эти отношения оставались прохладными.
Будучи простецом в богословии, святой Целестин распорядился перевести поступившие к нему послания и иные документы на латинский язык и отправил их в Массилию (Марсель) на экспертизу преподобному Иоанну Кассиану, ученику святого Златоуста. И тот вынес заключение в пользу христологии Кирилла, изложив свои взгляды в «Семи книгах о воплощении Христа», – обстоятельство, говорящее не в пользу тех авторов, которые на том основании, что Иоанн Златоуст принадлежал антиохийской богословской традиции и в его творениях не встречается именование Пречистой Девы Богородицей, пытаются сблизить его христологические воззрения с учением Нестория.
В августе 430 года папа созвал в Риме собор италийских епископов, и тот на основании заключения, сделанного искушенным массилийским богословом, осудил христологическую ересь Нестория.
Целестин обратился к Несторию с посланием, в котором прямо, без обиняков обвинил его в ереси. Тон этого послания характерным образом отличался от того, в котором ранее вели свой спор Кирилл и Несторий, пытавшиеся донести друг до друга свои аргументы, чтобы переубедить оппонента, исходя из предпосылки, что каждый из них, хотя и заблуждаясь, искренне отождествляет свою богословскую позицию с учением Церкви. Для Целестина же Несторий – заведомый и сознательный еретик, злонамеренно противопоставляющий свою ересь Священному Преданию, которое ему, конечно, известно, но которое он отвергает; скрывая, однако, свое вероотступничество, он, Несторий, действует как изворотливый преступник, стремящийся избежать заслуженной кары, – в богословский спор с Несторием по существу затронутых вопросов Целестин не вступал: «Когда мы в твоих сочинениях идем следом за тобою, настигаем тебя, схватываем тебя, ты стараешься увернуться от нас каким-то многословием, темнотой его прикрывая ясность истины и потом снова утверждая то, что было отрицаемо… В посланиях же своих ты не столько изъяснил нашу веру, сколько выказал себя самого, желая дать иное учение о Боге Слове, а не то, какое содержит вселенская вера… Кто мог предположить, что под одеждой овцы скрывается хищный волк?»[22]. Одну из причин впадения своего адресата в ересь Целестин усматривает в том, что он занялся исследованием вопросов, превышающих возможности человеческого разума: «Откуда пришло тебе желание направить свои речи на такие вопросы, решение которых по началам разума есть нечестие? Зачем епископу проповедовать народу такое, чем ослабляется в нем благоговение к рождению Девы? Нечестивыми словами о Боге не должно возмущать чистоту древней веры»[23].
За этими жесткими укоризнами стоит пастырская забота святителя о чистоте веры народа Божия. Его слова продиктованы здоровым богословским апофатизмом – разумным скепсисом к способности рационального постижения богооткровенных истин, но при ином и не благожелательном отношении к суждениям Целестина, изложенным в этом послании, его легко обвинить в обскурантизме. Святой Кирилл выразил подобную мысль в послании к монахам своего диоцеза несравненно более тонко: он писал тогда, что в вопросе о способе соединения Божества и человечества во Христе «и самые тонкие и проницательные умы едва только могут провидеть некое слабое мерцание света, а для умов простых и мало изощренных в понимании истины веры все представляется темным»[24]. В послании Целестина содержится и прямая угроза: «Мы готовим прижигание и железо; не надобно больше употреблять пластыря для тех больных членов, которые следует только отсечь»[25]. Папа, правда, давал Несторию десятидневный срок для публичного объявления о своем покаянии, в противном случае угрожая ему низложением. Своему собрату Кириллу Целестин поручил выступить с обвинениями Нестория на церковном суде в качестве его местоблюстителя, если Несторий не отступится от своей ереси.
Исполняя поручение папы, Кирилл созвал в Александрии собор, на котором были одобрены составленные им «Главы» («Кефалайа»), содержащие изложение православной христологии с присовокуплением анафем тем, кто не принимает ее:
«1. Кто не исповедует Еммануила истинным Богом и посему Святую Деву Богородицею, так как Она по плоти родила Слово, сущее от Бога, ставшее плотию: да будет анафема…
5. Кто дерзает называть Христа человеком Богоносным, а не, лучше, Богом истинным, как Сына, единого (со Отцем) по естеству, так как Слово стало плотию и приблизилось к нам, восприяв нашу плоть и кровь (Евр. 2: 14): анафема…
12. Кто не исповедует Бога Слова пострадавшим плотию, распятым плотию, принявшим смерть плотию и наконец ставшим первородным из мертвых, так как Он есть жизнь и животворящ, как Бог: анафема»[26].
Главы с 12 анафематизмами предназначались для того, чтобы их принял и подписал Несторий; в противном случае он, по мысли отцов Александрийского собора, подлежал низложению. Эти анафематизмы вместе с посланиями Целестина были доведены до сведения не только Нестория, но также Иоанна Антиохийского, Ювеналия Иерусалимского, Акакия Верийского.
У Иоанна Антиохийского и его единомышленников анафематизмы вызвали резкое несогласие. 3-й анафематизм («Кто во едином Христе после соединения (естеств) разделяет лица, соединяя их только союзом достоинства, то есть по воле или в силе, а не, лучше, союзом, состоящим в единении естеств: анафема»[27]) давал повод подозревать Кирилла в том, что его выражение «единение естеств» подразумевает их смешение или поглощение человеческой природы природой божественной, иными словами – интерпретировать так, как впоследствии понимали Кирилла монофизиты (в ту пору подобные мысли противниками не вполне корректно обозначались как аполлинарианская ересь). Правда, существует предположение, что, будучи по происхождению, возможно, коптом, Кирилл не влагал в слова «ката физис» («по природе») аутентично греческое значение, потому что на коптском языке калька этого выражения имеет скорее значение «действительное, истинное», а не «по природе», вроде как по-русски можно выразиться «натурально», «естественно», не имея в виду собственно натуру, природу, или естество, но эта аргументация от филологии имеет, конечно, лишь весьма относительное значение и основана на проблематичных допущениях.
«Главы», став известными «восточным», которых называли так потому, что их кафедры находились в пределах Сирийского, или, по-другому, Восточного, диоцеза со столицей в Антиохии, вызвали в их среде взрыв негодования. Иоанн поручил проанализировать «Главы» епископам Феодориту Кирскому и Андрею Самосатскому. И оба они сделали о них негативное заключение. В основном с такой оценкой согласился и Иоанн. Дело было, конечно, не в том только, что епископы, сложившиеся как богословы в лоне антиохийской традиции, не хотели выдавать на расправу одного из своих же антиохийцев, но главным образом в том, что некоторые из формулировок святителя Кирилла представлялись им действительно неприемлемыми. Феодорит и Андрей Самосатский обвинили Кирилла в аполлинарианстве. Это было неосновательное обвинение, но повод к нему он давал тем, в частности, что вновь и вновь повторял христологическую формулу, действительно принадлежащую Аполлинарию, но последователями этого ересиарха включенную подложно в одно из творений святого Афанасия, и Кирилл, конечно, принимал ее за афанасиевскую: «миа физис ту Феу Логу сесаркомени» («единая природа Бога Слова воплощенного»). В эту формулу Кирилл влагал православный смысл, чуждый отрицания полноты человечества во Христе, но терминологически это было весьма уязвимое выражение, не говоря уже о его происхождении из нечистого источника. Дело в том, что святой Кирилл – и в этом он сходился со своими противниками антиохийцами – не проводил резкой грани между понятиями «физис» (природа) и «ипостась». И в этом они шли вслед за Афанасием Великим, который по той же терминологической причине избегал говорить о трех Божественных Ипостасях, потому что подобное выражение ему представлялось близким к выражению «три природы», «три сущности». Употребление Василием Великим термина «ипостась» в значении, идентичном «лицо», применительно к триадологии сняло недоразумения, устранило подозрение в том, что омоусиане, «единосущники», впадают в савеллианскую ересь. До Халкидонского собора, пока терминология Василия Великого не была перенесена в область христологии, богословы антиохийской школы подозревали Кирилла, употреблявшего по отношению к Богочеловеку Иисусу Христу выражение «миа физис» («одна природа») в криптоаполлинарианстве, а сами, в свою очередь, употребляли не только правомерный термин «две природы», но также и «две ипостаси», хотя, разумеется, не говорили при этом о двух лицах – подобным образом не выражался даже Несторий. И все же расхождение между Кириллом и «восточными», или антиохийцами, и, прежде всего, самим Несторием, не сводилось к терминологической неувязке – оно затрагивало и их богословское видение, а в известном смысле и саму веру.
В.В. Болотов, резюмируя суть споров Кирилла с «восточными» богословами, писал: «Если Нестория нужно укорять за то, что он слишком конкретно понимал человечество во Христе, превращая Его в отдельного человека, то в системе Кирилла человечество представлялось слишком отвлеченным, почти только свойством Богочеловека, а не Его природой, жизненной, реальной. Зато Кирилл спасал великую истину личного единства Богочеловека»[28]. Святой Кирилл был, несомненно, прав, когда отвергал идею Нестория и Феодора Мопсуестийского о нравственном совершенствовании Христа, о Его борьбе с искушениями, но с его христологической концепцией трудно совместить представление о реальном младенчестве Христа, о Его умственном развитии, и в его рассуждениях на эту тему появляется неизбежный оттенок докетизма: всеведущий Господь по икономии в младенчестве представлялся людям младенцем, обладая в действительности как Бог полнотою ведения.