Римская природа романтизма
Историософия православной державности романтична по сути. На ее основе сложилось духовное движение, стержневое в русском романтизме. В корне слова «романтизм» сосредоточена глубинная сущность этого направления в искусстве: латинское «Рома» (Roma) – название города и государства Рима.
 |
| Рим |
В русской романтической словесности XIX века в целом повторилось духовное развитие древнего Рима: христианство здесь постепенно возобладало над язычеством – в своем православно-державном, византийско-русском виде. Многие русские романтики в собственных судьбах повторили такое развитие.
На Западе, напротив, в упорной борьбе получило перевес начало языческое. А поскольку языческий Рим был воспроизведением духа более древних держав, то и языческое направление романтизма мало внимания обращало на свое «римское» своеобразие. Путеводной звездой для романтиков-язычников стал не столько Рим, сколько Вавилон как прообраз всемирных имперских притязаний языческой магии. Так наряду с романтизмом стал развиваться некий «вавилонизм».
Историософия Первого и Второго Рима
Уже в первые века по Рождестве Христовом судьба Рима была истолкована христианскими мыслителями в свете библейского пророчества Даниила (2: 31–34) и Второго послания апостола Павла к Солунянам (2: 1–8): и на востоке, и на западе империи Рим воспринимался как четвертое, последнее из указанных в Библии великих царств; оно будет сопротивляться разрушению от антихриста в самом конце света[2]. По выражению псковского старца Филофея (XVI в.), «ромейское царство» уже не заменимо до конца света и «неразрушимо, яко Господь в римскую власть написася»[3], – имеется в виду, что Христос по Рождестве подпал под перепись населения, устроенную императором Августом (разумеется, по Промыслу Божиему). Лишь с концом света земной Рим перейдет в свое вечное состояние, войдя в Новый, Небесный, «Святой Иерусалим» (см.: Откр. 21: 10).
 |
| Патриарх Никифор I венчает на царство Михаила I Рангаве. Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы. XII в. |
Духовному укреплению Нового, или Второго, Рима способствовало совпадение его рождения с признанием христианства государственной религией империи: переносом столицы символически выражался отход от язычества, господствовавшего в «ветхом» Риме. Особенно принижался старый Рим распятием Христа при чиновнике Пилате, который, по замечанию старца Филофея, «от латын бяше»[6]. В дальнейшем латинский, католический Рим в православном (греческом и русском) восприятии неразрывно связывался с богопротивным язычеством, а также с поздним иудейством – двумя силами, преследовавшими и распявшими Христа.
Возвышение Константинополя сопровождалось и общим экономическим, культурным усилением Востока империи по сравнению с Западом. Так в истории Рима осуществлялась история всего мира: «ветхий» заменялся «новым». Государственное падение Западного Рима в 476 году совсем ослабило его значение, однако затем, постепенно усиливаясь с течением веков, он вновь стал притязать на свое исключительное священное достоинство[7].
Грекоязычное население Восточного Рима (впоследствии – Византии) именовало себя «ромеями» («римлянами») в отличие от западных «латинян»[8]. В свою очередь и германцы, ставшие опорой возрождавшегося Западного Рима, признавали, что они не настоящие «римляне», но зато и презирали «римлян» Византии[9].
Разрушение «ветхого» Рима в 410 году вестготом Аларихом побудило Августина Блаженного в трактате «О граде Божием» развить символическое понимание города-государства как вечного на небе и переменчивого в своих земных проявлениях. Это учение позволяло и Ветхому, и Новому Риму оправдывать свои властные притязания. Но непосредственные выводы Августина, противопоставившего власть Божию (церковную) власти светской (дьявольской) и указавшего, что первая должна вытеснить вторую, вполне развились на Западе бывшей империи, а не на Востоке, в Византии[10]. На деле это привело на Западе империи к беспрестанной борьбе между Римскими папами и светскими преемниками власти западно-римских императоров, причем в редких случаях между ними достигалось взаимодействие и взаимодополнение, как при Карле Великом, «римском императоре» в 800–814 годах, и Оттоне I, основателе «Священной Римской империи германской нации» (узаконенно существовавшей с 962 по 1806 год).
В ходе борьбы с императорами Западная Римская церковь увлекалась устроением Царства Божиего на земле – делом, с православной точки зрения, греховным, антихристовым. Тем самым латинский Рим еще раз подтвердил в глазах православного Рима свою изначальную и сокровенную сопряженность с иудейством: «…через папизм, иудейский хилиазм мечта о земном граде возродилась в западном христианстве»[11].
Византия стремилась к иному идеалу: к «симфонии» церковной и государственной власти, к их любовному согласию и взаимной поддержке[12]. Обе ветви православной власти не служат созданию вечного священного царства на земле, тем более земного «Царствия Божиего»; они помогают во временной жизни подготовиться к жизни вечной.
Возрождая и разрабатывая римскую символику, романтики католического Запада и православного Востока, естественно, различались в своих предпочтениях: одни возвышали образ Первого, Западного Рима, другие – Второго, Восточного (а в России еще и Третьего – «Московского»).
На Западе Новалис первым ясно заговорил о всеобъемлющем значении Священной Римской империи (в ее «латинском» осмыслении). В рассуждении «Христианство или Европа» (1799) он зовет восстановить утраченный средневековый образ жизни, основанный на римо-католической державности: «То были прекрасные, блестящие времена, тогда Европа еще была христианскою страною… С полным правом мудрый глава Церкви оказывал противодействие наглому развитию человеческих способностей насчет понимания священного характера религии»; протестантское посягновение на имперское достоинство католического Рима – причина всех последующих бедствий: «Этот внутренний разлад, сопровождаемый разрушительными войнами, является замечательным признаком вреда, приносимого культурою, или во всяком случае – временного вреда, сопутствующего известной степени культуры… Мятежники разделили неразделимое, разделили неделимую Церковь… новая, в высшей степени чуждая религии земная наука вторглась в религиозную сферу – философия, пагубное влияние которой с этого времени становится ясным… начала утверждать, что Библия может быть доступна для всех»[13].
Статья Новалиса несколько опередила общее развитие западного романтизма; «ее предполагали напечатать в романтическом журнале “Атенеум” рядом с прямо противоположным ей по направлению “Эпикурейским исповеданием” Шеллинга, затем по совету Гете не напечатали вовсе»; «идеи их друга застигли тогда романтиков врасплох»[14]. Полностью работа Новалиса была напечатана лишь в 1826 году, когда направление, в ней намеченное, возобладало в романтизме. Однако уже во время записи мысли Новалиса звучали злободневно: Священная Римская империя германской нации, основанная Оттоном I в 962 году, законно еще существовала, и даже когда Наполеон I в 1806 году ее упразднил, это лишь обострило «римские» споры в Европе, ведь Наполеон был одержим замыслом собственной всемирной империи наподобие Римской и на коронации в 1804 показательно присвоил себе полномочия папы Римского, включившись тем самым в западный спор светских и церковных владык.
Итальянские романтики, как никто другой, принимали мысли, высказанные Новалисом. Во флорентийском журнале «Антология» в 1831 году было помещено рассуждение о том, как Рим послужил спасению Европы от «рабства и варварства»: «За этой отнюдь не легкой акцией языческого Рима последовала акция Рима христианского, которая стала невероятно важной. В отрезке между падением империи и до начала возрождения вся наиболее прекрасная часть истории совершена Римом. С Евангелием в руках он сделал то, что Иерусалим не сумел и не захотел сделать, имея в руках Десять заповедей. Рим шел вперед, вздымая Ковчег, вокруг которого суждено было объединиться всем современным нациям»[15]. Это рассуждение – прозрачный намек на родственное преемство между иудаизмом и римским католичеством в деле построения всемирного священного царства – земного и в то же время вечного и «божественного».
Романтические поклонники первого Рима находились даже и в России, конечно, исключительно среди немногочисленных окатоличенных дворян. Между ними самым духовно влиятельным был П.Я. Чаадаев. Он, в частности, пытался доказать, что западная идея устроения Царства Божия на земле основана на учении Самого Христа и «что поэтому нам не следует ставить в укор Римской церкви то, что она не встретила препятствий в своих усилиях обеспечить своему главе престиж или опору светского скипетра» (письмо к Е.А. Долгоруковой от 2 марта н. ст. 1850 г.)[[16.
Однако большинство русских, если даже и признавали обаяние древнего западного Рима, то все-таки отрицали его духовное значение, особенно в настоящем и будущем. Так, А.Н. Майков, создатель поэтического цикла «Очерки Рима», писал родным 6 ноября 1842 года (н. ст.), через неделю после своего приезда в Рим: «В Риме я хотел видеть две вещи – развалины древнего мира, покрытые плющом и диким злаком, и развалины католицизма, облеченного во всю роскошь прежнего его величия, обратившегося ныне в одни внешние формы. Я искал и нашел обе эти развалины»[17]. Сходно думали многие русские, несмотря на все очарование Италии: «Развалина материальная, развалина духовная – вот что был Рим в 40-х годах»[18].
Становление русской историософии Третьего Рима

|
| Икона |
В 1453 году Византийский Рим был сокрушен исламской Турцией. Падение Константинополя было воспринято на Руси как итог его духовного блуждания по следам Первого Рима – ведь незадолго до падения Византия стала уступать власти католиков (Флорентийская уния 1439 года). И вот Господь, неоднократно и чудесно спасавший Византию в самых безвыходных положениях, теперь, за преступление веры, за неверность отвернулся от нее.
С этого времени Московская Русь окончательно осознает себя Третьим Римом и Римом последним до конца света – в надежде на свою неизменную верность Православию. Вскоре после падения Константинополя Русь завершает освобождение из-под татарского гнета – «оба эти события естественно связываются на Руси, истолковываясь как перемещение центра мировой святости: в то время как в Византии имеет место торжество мусульманства над Православием, в России совершается обратное, то есть торжество Православия над мусульманством»[19].
Первым представления о Третьем Риме отчетливо изложил псковский старец Филофей в посланиях к великому князю Василию III и дьяку Мунехину (1510–1520-е годы): «Стараго убо Рима Церкви падеся неверием аполинариевы ереси, Втораго Рима, Константинова града Церкви, агаряне внуце секирами и оскордъми рассекоша двери. Сиа же ныне Триаго, Новаго Рима, дръжавнаго твоего царствия святая соборная апостольская Церкви, иж в концых вселенныа в православной христианьстей вере во всей поднебесней паче солнца светится… блюди и внемли, благочестивый царю, яко вся христианская царьства снидошас в твое едино, яко два Рима падоша, а Третей стоит, а Четвертому не быти»[20]. Уверяя, что Четвертому Риму не бывать, старец, видимо, учитывает то, как Христос в притче предписывает ухаживать за бесплодной «смоковницей» три года, а потом, если так и не принесет плода, срубить ее (см.: Лк. 13: 7–9). Верные Христу граждане Третьего Рима противостоят на земле приходу антихриста, а по земной смерти переходят в вечный Небесный Иерусалим, напоминает Василию III старец: «Да аще добро устроиши свое царство – будеши сын света и гражданин вышняго Иерусалима»[21].
Старец Филофей указал на главную и по сути духовную причину государственного падения Первого и Второго Рима: измену истинному, то есть православному, христианству. Латинский Рим, по убеждению старца, окончательно изменил Христу в IX веке, совратившись при императоре Карле Великом и затем при папе Формозе в проиудейскую по духу ересь Аполлинария, возникшую в еще IV веке: «…но душа их от диавола пленены быша опреснок ради»[22]. Проиудейский дух ереси Аполлинария и вслед за нею католичества внешне проявился в том, что они таинство Евхаристии стали совершать на пресном, как и при иудейской пасхе, хлебе, в то время как Христос во время Тайной вечери заповедал употреблять квасной хлеб, знаменующий таинственное соединение во Христе Божественной и человеческой природы: «Сего ради Тайная вечеря глаголется, понеже в жидох от 11 до 14 (в дни празднования пасхи. – А.М.) не обретается квасной хлеб в домех»[23]. Между тем без соединения Божественной и человеческой природы во Христе не было бы и таинственного спасения рода человеческого: «…аще плоти человеческиа не приат Спасъ, то и падшаго Адама и всех от него рожденных человекъ плоть не обожися, и, аще ли душа человечскиа не приал господь, то и ныне душа человечскиа не изведены от адскых»[24].
Вслед за латинским Первым Римом по той же причине в XV веке пал и Второй, византийский Рим: «…греческое царство разорися и не созиждется… понеже они предаша православную греческую веру в латынство»[25].
Уверенность Руси в своем «римском» достоинстве стала созревать задолго до старца Филофея, подпитываясь чередой красноречивых «случайностей» и осознанных поступков выдающихся представителей народа. Так, еще прежде, чем святой Владимир Креститель принял из Византии для Руси Православие, отвергнув католичество и все прочие верования, святые просветители Кирилл и Мефодий способствовали созданию священного церковнославянского языка, приняв за его основу речь византийских (солунских) славян, которые сознавали себя истинными «ромеями» («римлянами»)[26]. Так что впоследствии Русь стала основным оплотом славяно-«ромейского» церковного языка. В Херсонесе, где крестился святой Владимир в 988 году, те же святые Кирилл и Мефодий ранее чудесным образом обрели мощи священномученика Климента, папы Римского (I в.), знаменитого ученика и сподвижника апостолов Петра и Павла. Святитель Климент был посвящен апостолом Петром во епископы Рима. И вот этот преемник апостола Петра завершает жизненный путь в Херсонесе (Корсуни), где и начинается Крещение Руси, причем часть мощей святого Климента, обретенных просветителями славян Кириллом и Мефодием, отправляется в Рим, а часть (включая и главу) остается в Херсонесе и потом святой Владимир забирает их в Киев и полагает в Десятинной церкви.
Другой древний источник русского Православия, Новгород, получил первого епископа из Херсонеса, и поскольку Православие еще в апостольские времена пришло в Херсонес благодаря святому Клименту, то и в Новгороде в древнейшие времена был построен храм во имя этого Римского папы, ознаменовавшего своей судьбою перенос на Русь римского первоверховного, «Петровского», апостольского достоинства.
Вскоре Русь связала свое зреющее «римское» сознание и с братом апостола Петра – «первозванным» апостолом Андреем: уже в «Повести временных лет» излагается предание, согласно которому апостол Андрей принес свет Крещения в Киев и Новгород[27].
Если мощи святителя Климента были обретены во времена патриарха Константинопольского Фотия, когда впервые ясно обозначилась пропасть между Западным и Восточным Римом, и если часть мощей попала на Русь, когда эта пропасть углубилась, то ко времени окончательно признанного раскола (1054) в Киеве и Новгороде уже были воздвигнуты храмы Святой Софии – по образцу главного храма Константинополя, в ознаменование духовного преемства, которое в случае падения Православия в одном государстве позволит сохранить веру в другом. «Такие столицы, как Киев, Новгород, Владимир, сознательно создают архитектурные образы второго Рима – Константинополя (прежде всего это Софийские или софийского типа соборы)… Во образ третьего Рима оформляет себя и Москва»[28]. К софийскому виду относятся Успенские соборы: во Владимире, в Москве – так как праздник Успения Богородицы связывался с поклонением Святой Софии, Премудрости Божией.
Обычным явлением были браки, связывавшие русских князей с родами византийских императоров. Н.М. Карамзин отметил знаменательное совпадение: в канун Крещения Руси Владимир Великий взял из Византии в супруги Анну, а в канун падения Второго Рима император Мануил женил своего сына на дочери великого князя Василия Дмитриевича Анне, внучке Дмитрия Донского, положившего начало освобождению России от татар.
То ли Владимир Великий, то ли Владимир Мономах – внук византийского императора Константина Мономаха (по устойчивому преданию, скорее он), получил из Византии знаки императорской власти: «шапку Мономаха» и другие[29]. Есть основание считать, что Ярослав Мудрый был удостоен от византийского императора наименования цезаря (кесаря, царя), когда во всей Европе кроме него таковыми считались правитель Священной Римской империи Конрад и правитель Византии Константин Мономах[30].
Даже враждебная католическая Европа с 1473 года на некоторое время признала Москву единственной законной наследницей власти Восточной Римской империи. Это произошло при заключении брака Ивана III и Софьи Палеолог, последней преемницы престола Византии[31]. Так что когда Иван IV (Грозный), внук Ивана III и Софьи Палеолог, принял по совету митрополита Макария титул «царя», он то тем самым естественным образом применил к жизни учение о «Москве – Третьем Риме», окончательно сложившееся во времена его отца – великого князя Василия.
Учение о Москве (и вообще Руси) как истинном Риме отразилось в преданиях, вроде «Повести о белом клобуке» и «Сказания о князьях Владимирских». Сама стихия родного языка укрепляла народ в осознании вселенского значения Рима именно в его русском проявлении, ведь именно по-славянски «Рим» в обратном чтении звучит как «Мир». Выражение «Рим – весь мир» приписывали на Руси апостолу Павлу, крестителю Рима[32]. Уже в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона (XI в.) Русь, подобно Риму, предстает неким средоточием всего мира: она «ведома и слышима есть всеми четырьми конци земли»[33].
В течение XVII–XVIII веков учение о Третьем Риме развивается, питаясь рядом знаменательных событий. В 1613 году на царство всенародно избирается род Романовых, то есть «Римских», – в переводе коренного латинского значения слова на русский. Примечательно, что первым из этого рода фамилию «Романов» в честь своего деда стал носить Федор Никитич (ставший потом патриархом Филаретом), внук Романа Юрьевича Захарьина, отца Анастасии, жены царя Ивана Грозного. Несомненно, смена родовой фамилии должна была духовно-символически подкрепить справедливые притязания рода Захарьиных на царскую – римско-романскую – власть после пресечения правящего рода Рюриковичей в конце XVI века. И хотя сам Федор Никитич в ходе борьбы за престол был насильно пострижен в монахи, он впоследствии стал патриархом, способствовал избранию первого царя из рода Романовых – своего сына Михаила Федоровича, а затем был соправителем при нем.
В мистическом восприятии предвестием избрания нового царствующего рода стало чудесное открытие мощей святого Антония Римлянина, который в XII веке таинственно прибыл в Новгород из самого Рима, будучи православным и спасаясь от притеснений католиков. Мощи открылись в царствование Федора Иоанновича, последнего царя из рода Рюриковичей, при котором было учреждено и патриаршество на Руси. С патриаршеством глава Русской Церкви стал равночестен, по древним православным правилам, папе Римскому[34].
Русский патриарх принял поставление от патриарха Константинопольского в 1589 году. Православные патриархи признали учение о Москве как Третьем Риме, они признали также особое покровительство Московского патриарха над «апостольским престолом Константина града», как сказано в соборном постановлении первосвятителей[35].
Петр Великий, основывая новую столицу России, сознательно повторил деяние Константина Великого, перенесшего столицу Римской империи; это резко подчеркивалось именем города: Санкт-Петербург – «град святого Петра» – первоверховного апостола, проповедовавшего в Первом Риме и получившего от Самого Христа именование «камень» (см.: Мф. 16: 18; греч. «петра» – «скала, утес, огромный камень»). В облике новой русской столицы изначально подчеркивалась его «каменность», «скальность», многообразно отраженная в художественной литературе.
В условиях сохранения и усиления российской государственности Петербург занимал двойственное положение: с одной стороны, он укреплял образ русского Третьего Рима, отнимая у Первого (латино-католического) глубинный символический устой – связь с именем апостола Петра (и Петр I вполне осуществил свой замысел, провозгласив в 1721 году Россию империей и себя императором); но, с другой стороны, в условиях многовекового навыка восприятия Москвы как Третьего и последнего Рима и в сочетании с частично противоправославным правлением Петра, учреждение новой столицы стало восприниматься в широких слоях населения как создание совершенно нового царства, которое могло быть началом царства антихриста, ведь только ослабление Третьего Рима, Москвы, должно открыть антихристу дорогу к власти.
В замысле Петра I, несомненно, преобладало желание укрепить и возвысить русский Рим. Это доброе зерно развивалось в течение века и в романтическое время принесло богатые плоды. Уже среди сподвижников Петра I в ходу было созвучное «Константинополю» имя новой столицы – «Петрополь»[36]. «Вслед за Константином Великим Петр выбрал время для переноса столицы своего государства через 13 лет после начала правления, в 1703 году (если вести этот отсчет от осени 1689 года, когда закончилась власть царевны Софьи). Петербургские морские укрепления воспроизводили константинопольское местоположение, на что давно указал Н.Г. Устрялов»[37].
Собирая в образе русской столицы признаки Первого и Второго Рима, Петр словно бы указывал, что Россия – это Рим вообще, в его коренной сути. В словесности XIX столетия этот образ русского Рима и восторжествовал после западнических смущений и затемнений, привнесенных с деятельностью того же Петра I. В первой половине века распространяются православно-русско-римские, церковнославянские по духу наименования северной столицы: «Град Петра», «Петров град», «Петроград» и т.д. Они встречаются, например, у Пушкина, у Батюшкова[38]. В том же «Медном всаднике» Пушкина наряду с церковнославянскими названиями столицы встречается и грекообразное «Петрополь».
 |
| Москва, храм Христа Спасителя |
Николай I поддерживал царственное достоинство Москвы с особенным усердием: к общим соображениям и чувствам здесь добавлялись личные, ведь Петербург встретил нового царя мятежом декабристов. Пушкин записал в дневнике 14 декабря 1833 года: «Мне возвращен “Медный всадник” с замечаниями государя…; стихи “И перед младшею столицей / Померкла старая Москва, / Как перед новою царицей / Порфироносная вдова” вымараны»[42].
В том же 1833 году А.И. Полежаев, противостоявший самодержавию и Православию, позволил себе утверждать,
Что эта гордая Москва,
Которой добрая молва
Всегда дарила имя чуда, –
Песку и камней только груда[43].
Однако такие настроения были в то время исключением, а Полежаев провел все зрелые годы жизни в опале.
С новым возвышением Москвы для многих и в Петербурге прояснялся православно-державный, московский облик. Лишь некоторые славянофилы, как К.С. Аксаков, считали, что это «незаконнорожденный город, прижитый с Западной Европой»[44]. Большинство славянофилов, по едкому замечанию западника М.И. Жихарева, «общими принципами петербургского правительства» были «совершенно довольны»[45].
В петербургских повестях Гоголя северная столица предстает местом борьбы с наступающими демоническими, антихристовыми силами[46].
Знаменательно пророчество, услышанное служкой святого Серафима Саровского Н.А. Мотовиловым в 1834 году: «Антихрист родится в России между Петербургом и Москвой, в том великом городе, который по соединении всех племен славянских с Россией будет второй столицей царства Русского и назван будет “Москво-Петроградом”, или “Градом конца”, как именует его Господь Дух Святой, издалече все предусматривающий»[47]. Здесь соединились представления о действительном духовном срастании двух столиц и о том, что русский Рим будет стоять до конца света, а значит и до царства антихриста, которое возникнет перед концом времен. Движимый подобными эсхатологическими предчувствиями, Лермонтов в 1830 году связывает грядущие черные времена человеческой истории с падением русского самодержавия и ослаблением Православия:
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет…
В тот день явится мощный человек…
И будет все ужасно, мрачно в нем…[48]
В 1871 году граф А.П. Толстой прислал в Оптину Пустынь описание своего сна, в котором запечатлелись настроения многих православных людей первой половины века. В 1840-е годы Толстой сблизился с Гоголем. Во сне Толстого действуют близкие им обоим лица: протоиерей Матвей Константиновский и митрополит Филарет, который изрек слова: «Рим, Троя, Египет, Россия, Библия». Старец Амвросий Оптинский, толкуя эти слова, заметил, что мировые державы терпят Божие наказание за языческие заблуждения и, напротив, процветают во Христовой вере, и вот «если и в России, ради презрения заповедей Божиих… оскудеет благочестие, тогда уже неминуемо должно последовать конечное исполнение того, что сказано в конце Библии, то есть в Апокалипсисе Иоанна Богослова»[49].
Временное и частичное противостояние двух столиц отразилось в русской словесности, придав ей особенный романтический оттенок[50]. Однако определяющей для русских писателей была идея Третьего Рима вне зависимости от того, с каким земным городом он связывался.
В начале XIX века римское достоинство России настолько занимало всех, что его вынуждены были признавать и провозглашать даже такие космополиты, как М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин[51]. Со второй половины 1800-х годов учение о римской державности России сказывалось в духовном направлении целых журналов, в том числе «Русского вестника» и даже «Вестника Европы».
Война 1812–1814 годов особо способствовала укреплению русского романтизма. В то время многие поняли, что Отечество снова вынуждено отстаивать свои права на всемирное («римское») достоинство. Известность получили слова Александра I: «Наполеон или я, но вместе мы не сможем царствовать»[52]. А.Н. Майков в «Сказании о 1812 годе» (1876) вспоминает о том, что было известно всем русским: Наполеон верил в свой «чудный жребий / Повелителя вселенной, / Сокрушителя империй», – и только Россия стала помехой «гордому замыслу»[53].
В годы Отечественной войны вспомнили исконную веру в единство Православия, русского народного духа и естественно выросшего на их почве самодержавия. Суть этого учения о родной православной державности Жуковский в 1814 году чеканно выразил в «Молитве русского народа» («Боже! Царя храни!»).
В царствование Николая I, начавшееся знаменательным подавлением прозападного мятежа, была предпринята во многом успешная попытка всемерного развития православно-державной духовности во всех областях народной жизни, включая и художественную словесность, в которой, по древнерусскому обычаю, увидели важную составную государственной жизни.
Символичным стало последовавшее за воцарением Николая I освобождение из ссылки Пушкина – «царя» русской поэзии. Пушкин сразу же и по достоинству оценил государственную мудрость нового императора. Уже в «Стансах» («В надежде славы и добра...»; 1826) поэт предрекает величие грядущего царствования. А вскоре, в стихотворении «Друзьям» (1828), он утверждает, что его предположения о Николае I сбылись:
Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами…[54]
Здесь же Пушкин в лице царя указывает коренной признак православной державности: воинственность, но воинственность не жестокую, не наступательную, а милосердную даже к врагам, охранительную, помогающую всем, кто нуждается в защите от несправедливого насилия, и в этой помощи не показную:
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит[55].
В зрелые годы поэт, по свидетельству Смирновой-Россет, отрекался от строк, написанных в юношеском заблуждении («И на обломках самовластья / Напишут наши имена»): «Сумасшедшие, разве такая махина, как Россия, может жить без самодержавия?»[56].
Русская романтика окрепла в условиях успешной войны с Турцией 1828–1829 годов. Что важно, победа была одержана над былою победительницей Второго Рима. Еще более благотворным для становления православно-державного духа оказалось мирное сближение с Турцией в 1833 году, когда открылись возможности постепенного включения былых византийских земель в пределы русского влияния: духовного и правительственного.
Именно в 1833 году Жуковский приноровил слова своей «Молитвы русского народа» к музыке А.Ф. Львова, и так возник гимн Российской державы, просуществовавший до отречения Николая II от престола 2 марта 1917 года[57]. В том же 1833 году новоназначенный министр народного просвещения С.С. Уваров дал древним представлениям, образно выраженным у Жуковского, предельно сжатое определение: «Православие, самодержавие, народность».
Многие писатели той поры, подобно Жуковскому и Пушкину, вдохновлялись духом русско-римской державности. Вяземский указал на общее значение Рима:
Рим! Всемогущее, таинственное слово,
И вековечно ты, и завсегда ты ново![58]
(Рим; 1846)
А.А. Фет пишет о превосходстве Восточного Рима над Западным, прослеживая различия в самом духе и языке латинян и греков даже еще в дохристианские времена:
Напрасно лепетал ты эллинские звуки:
Ты смысла тайного речей не разгадал
И на учителя безжалостные руки,
Палач всемирный, подымал[59].
(На развалинах цезарских палат; 1856–1858)
Так упрекает поэт Западный Рим.
Впрочем, большинство писателей было занято, по выражению П.А. Вяземского, своим родным «славянским и татарским Римом», в котором «есть русский склад, есть русский дух»[60] (Из «Очерков Москвы»; 1858).
В предисловии к сборнику стихотворений князя Элима Мещерского «Бореалии» (1839, на франц. языке) Россия представлена «как избранная страна, как “омега”, призванная завершить собою “книгу человечества”»[61]. Здесь вспоминается православное предание о Риме как последнем царстве, призванном стоять до конца света и сопротивляться антихристу.
В стихотворении «Поэзия», опубликованном в «Утренней заре. Альманахе на 1839 год», князь Элим Мещерский пишет:
Лишь вдохновением постигнется Россия,
Где вера с верностью под песнями росли,
Где уж давным-давно Георгий топчет змия,
И где мы Господу полмира поднесли[62].
Позже, в 1866 году, сходные представления проникновенно выражает Ф.М. Тютчев:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить[63].
И поэт объясняет, не рассудочно, а образно, что же такое православный Третий Рим, неизменно обращенный к горнему и вечному, презирающий земное благополучие:
Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя[64].
(«Эти бедные селенья…»; 1855).
Подметив нарождающееся в России западническое стремление к житейским удобствам, Тютчев с горькой усмешкой предупреждает:
Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейский!
Была крестьянской ты избой –
Теперь ты сделалась лакейской[65].
(1850-е гг.)
По мнению поэта, крепостное право, угнетающее народ лишь внешне – тяготами житейскими, не так страшно, как рабски подобострастное следование ложным западным ценностям, убивающим самую душу народа.
К 1840-м годам окончательно обозначилось стремление восстановить, хотя бы в народном мнении, столичное достоинство Москвы, ведь именно она издревле была Третьим Римом, а Петербург стал «окном в Европу», через которое проникали чуждые западные веяния. На общем настроении сказывалось, конечно, ожидание скорого празднования 700-летия древней столицы. Ф. Глинка восклицал в стихотворении «Москва» (1840):
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град![66]
В «Московских дымах» (1840-е гг.) Глинка еще более определенно выражает желание видеть Москву столицей:
И да зовут, о град святой,
Тебя и наши, и чужие
Короной царства золотой!..[67]
Н.М. Языков в стихотворении «К ненашим» (1844) также видит средоточием «Русской земли» Москву со «святыней древнего Кремля»:
Крепка, надежна Русь святая,
И русский Бог еще велик![68]
Тютчев надеялся, что в 1853 году (через 400 лет после падения Константинополя) Второй и Первый Рим окажутся в составе Третьего, русского; Москва же снова станет столицей:
Дни настают борьбы и торжества,
Достигнет Русь завещанных границ,
И будет старая Москва
Новейшею из трех ее столиц[69].
(Спиритистическое предсказание; 1853).
Такие настроения сохранялись и во второй половине века. Так, А.А. Фет, обращаясь к Александру III в стихотворении «15 мая 1883 года», видит в Москве подлинную, духовную столицу России, а в императоре – правителя всего хранимого Третьим Римом мироздания:
О, будь благословен сторицей
Над миром, Русью и Москвой,
И богоданной багряницей
От искушений нас укрой![70]
Поэты любили указывать на духовное преемство между Вторым и Третьим Римом. Н.М. Языков в «Землетрясенье» (1844) призывает современных русских поэтов, подобно избранным жителям «града Константина», в «годину страха» возноситься душою к Богу и приносить «дрожащим людям / Молитвы с горней вышины»:
Да в сердце примем их и будем
Мы нашей верой спасены[71].
А.Н. Майков еще более определенно обозначил духовную связь греческой и русской державы:
Русь уж многое дала,
В царство выросши под сенью
Византийского орла…[72]
(Пушкину; 1880).
Столь же деятельно «римский» вопрос ставился и в исторических, философских, литературно-критических сочинениях. Тут была прямая, не прерванная связь с древнерусской словесностью, связь очень удобная для нового державного строительства, начатого при Петре I. Историки XVIII века, в особенности Ломоносов, доказывали державное достоинство России, основываясь на летописях, «Степенной книге» и других древних сочинениях. Их работу по-своему продолжил Н.М. Карамзин, который в предисловии к своей «Истории государства Российского» пишет: «Взглянем на пространство сей единственной державы; мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею»[73].
М.П. Погодин, начиная в сентябре 1832 года ряд чтений в Московском университете, представил Россию уже состоявшейся владычицей мира: «…обладая такими средствами, не нуждаясь ни в ком и нужная всем, может ли чего-нибудь опасаться Россия? Кто осмелится оспаривать ее первенство, кто помешает ей решать судьбу Европы и судьбу всего человечества, если только она сего пожелает?»[74].
П.Я. Чаадаев в «Философических письмах» (1829–1830) попытался было возвысить Первый Рим и унизить Второй и Третий, однако подобные мысли были настолько несозвучны времени, что после появления в печати первого письма в 1836 году царь счел возможным усомниться в душевном здоровье философа. Да и во второй половине XIX века многие еще разделяли мнение о непригодности чаадаевских взглядов. Так, А.Н. Майков, касаясь в 1876 году статьи В.И. Ламанского «Россия уже тем полезна славянам, что она существует», заметил: «…тут вы можете увидеть, как недавно произошло то, что наше общество оторвалось от великого исторического пути, от идеи, создавшей Россию, вследствие какового оторвания и явилась возможность чаадаевских воззрений. Понятно, почему из наших государей нынешнего столетия Николай имел еще непосредственное понимание этой исторической идеи и почему о Чаадаеве воскликнул: “Он с ума сошел”»[75].
В литературной критике одним из первых подобные мысли стал высказывать В.К. Кюхельбекер. В рассуждении «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» (1824) он провозглашает: «…да создастся для славы России поэзия истинно русская; да будет святая Русь не только в гражданском, но и в нравственном мире первою державою во вселенной!»[76].
А.А. Бестужев-Марлинский в отзыве 1833 года на роман Н. Полевого «Клятва при Гробе Господнем» заметил, что русские князья «гордились породою, как электоры на священную империю»[77].
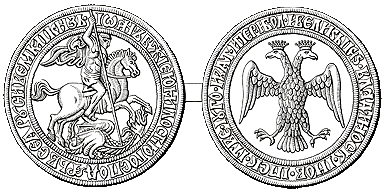 |
| Лицевая и оборотная сторона печати Ивана III. 1497. |
В 1830-е годы православно-державное настроение в литературной критике было настолько сильно и в то же время настолько соответствовало целям правительства, что Белинский от лица западников противостоял ему лишь иронически, под видом согласия: «Царь-отец» и «сановники, сподвижники царя», указывают народу и писателям «путь к просвещению в духе православия, самодержавия и народности… Равно взгляните, какое деятельное участие начинает принимать в святом деле отечественного просвещения и наше духовенство… Да! В настоящее время зреют семена для будущего!»[80] (Литературные мечтания; 1834).
Многие суждения о природе отечественной державности отличаются историософским, а порой и мистическим свечением. И. Киреевский в рассуждении «XIX век» (1832) пишет о значении Рима как места перехода от «языческого мира» к «христианству» и как способа соединения государственной власти с духовной, вероучительной: на Западе сложилась «Святая Римская империя»; «в России христианская религия была еще чище и святее. Но недостаток классического мира был причиною тому, что влияние нашей Церкви во времена необразованные не было ни так решительно, ни так всемогуще, как влияние церкви Римской»[81]. Здесь автор еще сомневается, какая «римская» система лучше – западная или русская, и даже более склоняется к западной; однако в поздней работе «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» (1852) он предпочитает Византию.
А.Н. Муравьев в «Письмах о богослужении» (1835–1836) считает промыслительным, что церковный глава Третьего Рима занял в сонме православных патриархов место отпавшего главы Первого Рима: «…по отделении папы от общения прочих Восточных патриархов звание пятого их собрата перенесено было общим их согласием в возвеличенную Провидением Церковь Российскую»[82].
И.Г. Кулжинский в сочинении «О значении России в семействе европейских народов» (1840) эпиграфом на языке Первого Рима (латинском) провозглашает величие Рима Третьего: «Тебе править миром, Россия, помни…»; подобно многим соотечественникам, Кулжинский уверен в духовном превосходстве греко-русского Рима над латинским: «Восток и Север Европы уклонились от деспотизма тиары… и когда потом пришла пора для греческой империи окончить свою тысячелетнюю страдальческую жизнь, тогда представительность Востока со всеми сокровищами его праотеческих христианских преданий, со всею первообразною чистотою веры и жизни преемственно перешли на Россию»[83].
Ф. Глинка завершает очерк «Семисотлетие Москвы» (1847) соединением первого и заключительного стихов 47-го псалма, усматривая в них пророчество о Москве, которой надлежит преобразиться из «последнего Рима» в «вечный Иерусалим»: «Велий Господь и хвален зело, во граде Бога нашего, в горе святей Его. Той упасет нас во веки»[84].
Со времен Петра I, после забвения в тяготах XVII века, вновь стал крепнуть и воздействовать на государственные дела замысел освобождения Второго Рима – Константинополя. Запад это сразу почувствовал и оказывал всяческое как идеологическое, так и военное сопротивление, принимая сторону Турции. Россия отвечала пером своих писателей, подчеркивая, что не стремится к завоеванию, а тем более порабощению всей Европы (именно такие цели приписывались ей в обнародованном на Западе в 1812 году так называемом «Завещании Петра I»).
В.Ф. Одоевский в очерке «Недовольно» (1866) подвел итог этим русским возражениям: «К тому же Россия не без врагов! хмурится на нас завистливый Запад. Не по сердцу ему наше новое подвиженье… По-прежнему является на сцену нелепая фабрикация парижской полиции, известная под названием “Завещания Петра Первого”, на которое указывается как на неоспоримое доказательство нашего неуклонного намерения завоевать всю Европу и истребить в ней просвещение»[85].
Достоевский в «Дневнике писателя за 1876 год» год указал на то, что в начале XVIII века Россия по причине временного упадка своего православного духа была еще не готова к отвоеванию Царьграда: «В Европе верят какому-то “Завещанию Петра Великого”. Это больше ничего как подложная бумага, написанная поляками. Но если б Петру и пришла тогда мысль вместо основания Петербурга захватить Константинополь, то, мне кажется, он… оставил бы эту мысль тогда же, если б даже и имел настолько силы, чтобы сокрушить султана, именно потому, что тогда дело это было несвоевременное и могло бы принести даже гибель России»[86].
Однако замысел войны ради освобождения земель и народов Второго Рима, сокрушенного Турцией, был понятен и близок многим русским.
В 1711 году сподвижник Петра I Феофан Прокопович в песне собственного сочинения выразительно сожалеет о неудаче Прутского похода против Турции:
Не судил Бог христианства…
Освободить от поганства,
Еще не дал збить поганства[87].
Выдающимся певцом продвижения к Константинополю стал Ломоносов. В «Оде на рождение Его императорского высочества государя великого князя Павла Петровича сентября 20-го 1754 года» поэт называет русскую столицу с должным намеком: «Петрополь»[88]. Будущего императора России Ломоносов наставляет:
Велики суть дела Петровы,
Но многие еще готовы
Тебе остались впереди[89].
Поэт призывает освободить «места святы», которые «вкруг облег Дракон ужасный» – Турция, угнездившаяся на православных землях Константинополя; и тогда Россия «восстановит вольность многих стран»[90].
При Екатерине II «греческий» замысел обрел прямую правительственную поддержку. Причем на Западе находились мыслители, видевшие наименьшее зло в том, чтобы в условиях военных успехов России Константинополь был взят именно при Екатерине II, сравнительно холодно относившейся к Православию. Во времена Николая I некоторые уже понимали причину такого странного западного сочувствия: Екатерина «ограбила Церковь и церковные земли раздала своим любовникам и фаворитам»; ей «была присуща в высшей степени… амбиция… Вольтер внушил ей мысль занять Царьград, потому что она не имела никакой особой симпатии к Греции»[91]. К тому же продвижение России к Константинополю могло способствовать (и действительно способствовало) объединению разрозненного Запада.
Екатерина II собиралась посадить на царьградский престол своего внука Константина Павловича. Державин, сменивший Ломоносова в своеобразной должности певца державного величия, в оде «На переход Альпийских гор» (1799) сравнивает Константина Павловича с византийским императором:
Кто витязь сей багрянородный,
Соименитый и подобный
Владыке византийских стран?[92]
В оде «На взятие Измаила» (1790) Державин надеется, что Россия близка к освобождению былых владений Православного Рима:
Росс рожден судьбою…
Отмстить крестовые походы,
Очистить Иордански воды,
Священный Гроб освободить,
Афинам возвратить Афину,
Град Константинов Константину
И мир Афету водворить[93].
«Мир Афету» означает примирение яфетических, или индоевропейских, народов: славянских, германских, романских и прочих. Впрочем, в подобных проречениях поэта барочное увлечение игрою слов несет в себе барочное же духовное смешение христианства с магией: имя Афины знаменует языческое, а не христианское представление о божественной Премудрости.
При Павле I царьградский замысел вновь исполнился православного содержания и осуществлялся более последовательно. Царь словно бы исполнял завет Ломоносова, выраженный в оде на его рождение. 2 ноября 1798 года он согласился стать великим магистром Мальтийского ордена, с помощью которого надеялся установить военное господство на Средиземном море и облегчить освобождение Константинополя. Неслучайно Державин в оде «На переход Альпийских гор» сравнивает сына Павла I, Константина, не только с соименитым византийским императором, но и с Гогоном (XIV в.), великим магистром ордена Иоаннитов (впоследствии – Мальтийского ордена). Для православного Державина знаменателен переход былого рыцарского оплота католичества (да еще с подозрительным уклоном в магию) под власть Третьего Рима – России.
Александр I в начале правления под воздействием прозападного воспитания и окружения осуждал стремление к отвоеванию Константинополя, а в 1807–1808 годах даже согласился помочь Наполеону в борьбе против Турции. Наполеон же утверждал, имея в виду турецкую империю: «Надо покончить с государством, которое не может более существовать»; и в то же время он не желал уступать Константинополь России, говоря: «Это значит господство над вселенной – C’est l’empire du mond»[94].
Великий князь Николай Павлович еще за десять лет до воцарения, заканчивая свое образование, весьма много времени уделял замыслу «изгнания турок из Европы», однако, как впоследствии выяснилось, он делал выводы, полезные собственной стране, а не Западу. После победоносной войны с Турцией в 1828–1829 годах Николай I предпочел превратить эту страну в союзника России против Запада, что и было закреплено договором о вечном мире, дружбе и союзе в 1833 году. Духовное влияние России на Турцию неуклонно возрастало, и создавались условия для мирного соединения земель Третьего и Второго Рима. По свидетельству Смирновой-Россет, через турецкого посланника царь велел передать султану Махмуду «предложение, чтобы мирным образом покончить с этим вечно угрожающим потрясением Восточного вопроса»: «Один Махмуд может разрешить; скажите ему, что, как друг, я советую ему принять веру большинства их подданных»; в ответ Махмуд назвал Николая I «единственным честным человеком в Европе» и «начал заниматься Церковью православною, но вскоре умер»[95]. Эта смерть вместе с последующими событиями была воспринята в России как следствие тайного вредительства Запада: султана, как и его преемника, спаивали англичане, причем Махмуда от белой горячки «английский доктор… лечил сильными приемами опиума»; преемник же его (второй сын, ставший султаном с 1861 года) «пил и совершенно одурел, подпавши совершенно в руки англичан»[96].
Во время правления Махмуда II, вплоть до его смерти в 1839 году, Россия рассматривала турецкие земли былой Византии как нечто себе подвластное. Такое мнение было распространено в русском обществе. Смирнова-Россет приводит его так, как оно отразилось у И.П. Мятлева в «Прощании двух братьев, дьякона и капитана», – в своем пересказе, не искажающем общий смысл: «Где ныне царская фамилия? – спрашивает дьякон у капитана. – В Константинополь едет царь. – Неужто турки взбунтовались? – Нет, нет, а только их пристращать»[97]. У Мятлева это звучит так:
Капитан
В Константинополь едет царь.
Дьякон
Неужто турки взбунтовались?
Капитан
Молчите, братец, мы заврались[98].
Восточный вопрос вновь обострился в год смерти Махмуда II. Фр. Гагерн в «Дневнике путешествия по России в 1839 году» передает слова генерал-адъютанта Шильдера: «Турецкая империя падает и не может продержаться более 25 лет. Так как тогда ни одна из держав не дозволит другой занять Константинополь, то он, вероятно, обратится в маленькую республику под покровительством великих держав, как Краков или Гамбург. Другого выхода я не вижу»[99]. Однако более отчизнолюбиво и православно настроенные русские видели другой выход. А.О. Смирнова-Россет вспоминает свой разговор с великим князем Константином Николаевичем накануне его поездки в Константинополь в 1845 году: «Спрашивал меня, что мне оттуда привезти. Я сказала: “Возьмите город”. Он положил палец ко рту и вполголоса сказал: “Он будет, будет наш – уж этого не миновать”»[100].
Западник М.И. Жихарев вспоминал, как в 1840-е годы многие в России «чрезвычайно опасались и в крайнее входили беспокойство, не пропустила бы Россия поры, “перекрестясь, ударить в колокол в Царьграде” и огласить славянской молитвой Софийский собор и берега Босфора»[101].
Подобные настроения разнообразно отражались в словесности и, между прочим, в устном народном творчестве. Как заметил в 1848 году А.С. Хомяков, «народные песни и предания у самих турок, сербов и болгар считают за несомненную истину, что рано или поздно Цареград будет завоеван русскими»[102].
Н.И. Надеждин в труде «О происхождении, природе и судьбах поэзии, называемой романтической» (1830) связал державное стремление к Царьграду с задачами изящной словесности. На языке Первого Рима – латинском – он утверждает права Рима Третьего как истинного преемника державного достоинства. В конце своего сочинения Надеждин рассуждает об особом мировом предназначении России, сокрушившей незаконные вселенские притязания наполеоновской Франции. Современных поэтов ученый призывает воспеть новые подвиги Отечества: «Уже российский победоносный орел восседал на берегах Сены, внимавшей некогда первый младенческий лепет романтической поэзии; ныне он переносится через… вершины Гемуса (Балкан. – А.М.)… отчего же бы и музе нашей быть менее смелою?»; русские, по Надеждину, «должны стать закваской новой великой цивилизации, подобно “пелазгам” классического и “тевтонам” романтического мира»[103]. Правда, здесь еще не очень внятно звучит мысль об «отечестве» Православия в Константинополе, освобождение которого чается; и новую русскую духовность ученый представляет как некое соединение средневековой христианской романтики и языческой классики. Но сам призыв к «певунам» прославить движение к Царьграду прозвучал мощно, и он вовсе не был гласом вопиющего в пустыне.
Среди поэтов Ф.И. Тютчев более других и внушительнее других воспевал царьградское направление русского духа. Тот же вопрос он рассматривал и в историософском сочинении «Россия и Запад» (1849), а также в сопровождающих работах, в частности в рассуждении «Папство и римский вопрос». Тютчев верил, что через 400 лет после падения Константинополя вновь восстановится Православие на землях Второго Рима и бесповоротно утвердится всемирная православная держава, основанная на российском могуществе: «Необходимо, однако, чтоб она оказала самой себе содействие в двух великих делах, которые находятся на пути к осуществлению. В области светской: образование греко-славянской империи. В области духовной – воссоединение обеих Церквей»[104]. По Тютчеву, императоры Запада и Римские папы, незаконно захватившие часть духовной и политической власти, принадлежавшей одной Византии, не умели воспользоваться чужим достоянием и уничтожали друг друга. Турки, по Промыслу Божьему, заняли православный Восток, чтобы защитить его от Запада, пока воссоздавалась законная держава, наследница Второго Рима; «Империя едина: Православная Церковь – ее душа, славянское племя – ее тело. Если бы Россия не пришла к империи, то она зачахла бы. Империя Востока – это Россия в окончательном виде»[105]. России должны подчиниться Австрия, Германия, Италия – «земли империи»[106]. В итоге: «…православный император в Константинополе, повелитель и покровитель Италии и Рима; православный папа в Риме, подданный императора»[107].
Во многих стихотворениях 1840–1860-х годов Тютчев выражает свое учение в образах:
Москва, и град Петров, и Константинов град –
Вот царства Русского заветные столицы…
Но где предел ему? и где его границы –
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временам судьбы их обличат…
Вот царство Русское… и не прейдет вовек,
Как то провидел Дух и Даниил предрек[108].
(Русская география; 1848 или 1849)
Обращаясь к государственному канцлеру К.В. Нессельроде, настроенному прозападно, поэт пишет:
Не верь в Святую Русь кто хочет,
Лишь верь она себе самой –
И Бог победы не отсрочит
В угоду трусости людской.
То, что обещано судьбами
Уж в колыбели было ей,
Что ей завещано веками
И верой всех ее царей…
Венца и скиптра Византии
Вам не удастся нас лишить!
Всемирную судьбу России –
Нет, вам ее не запрудить!..[109]
(1850)
Впрочем, со времен неудачной Восточной (Крымской) войны (1853–1856) Тютчев стал склонен обвинять русское самодержавие в отступлении от правой веры, в забвении мирового предназначения России[110].
А.Н. Майков в 1869 году издал «рассказ для народа», позднее названный «Начало восточного вопроса». В рассказе есть глава «Москва – Третий Рим». По признанию Майкова, «в основе всего высказанного здесь лежит большая и серьезная работа; многие мысли, тут высказанные, впрочем, теперь уже явились и в серьезной ученой обработке»[111].
Достоевский в «Дневнике писателя» (за 1876–1877 годы) много страниц посвятил решению восточного вопроса. Основная мысль писателя обычна для России: «…Константинополь – рано ли, поздно ли – должен быть наш…»[112]. Цель виделась Достоевскому уже настолько близкой, что он более всего занят был щекотливым обоснованием преимущественных прав русских, а не иных православных народов, на владение городом: «Итак, во имя чего же, во имя какого нравственного права могла бы искать Россия Константинополя?.. А вот именно – как предводительница Православия, как покровительница и охранительница его… Вот эта причина, вот это право на древний Царьград и было бы понятно и не обидно даже самым ревнивым к своей независимости славянам или даже самим грекам»[113]. «Константинополь должен быть наш, завоеван нами, русскими, у турок и остаться нашим навеки»[114].

|
| Генерал Скобелев во время Русско-турецкой войны в окрестностях Константинополя. 1878 г. |
К.Н. Леонтьев помнил то, что многие в его время уже забывали: романтизм – это не отвлеченная вялая мечтательность и не суеверия души, оторванной от действительности; истинный романтизм – воинственное, твердо стоящее на земле и в то же время мистическое, не злобное миросозерцание, призванное выражать учение о христианской, «римской» державности и тем способствовать защите верных Христу душ. Под конец жизни в «Записках отшельника» (1887–1891) Леонтьев признался, что ему, как «романтику, нравилась война»[116]. И в том же сочинении Леонтьев приводит выдержку из поучения затворника Феофана, напоминая беспамятным современникам древнехристианское учение о «мистическом значении какой бы то ни было монархической власти, а тем более, конечно, православной». Святитель Феофан пишет: «Древние истолковники Священного Писания силою, удерживающей явление антихриста, считали, между прочим, и римское царство… А так как антихрист главным делом своим будет иметь отвлечение всех от Христа, то он и не явится, пока будет в силе царская власть. Она не даст ему развернуться и помешает ему действовать в его духе. Вот это и есть удерживающее»[117].
Леонтьев выступил против возобновленных в конце XIX века западно-романтических веяний, которые обнаружились в трудах В.С. Соловьева, желавшего почти с чаадаевской откровенностью подчинить Православную Церковь римо-католической, а вместе с тем предоставить Римскому папе и мощь российской державы. В «Письмах Владимиру Сергеевичу Соловьеву» (1890) Леонтьев призывает развивать собственное отеческое Православие, «только поучаясь многому у Рима так, как поучаются у противника, заимствуя только силы, без единения интересов»; и это Леонтьев называет своим «греко-россианством», своим «византизмом»[118].
В «Записках отшельника» Леонтьев с насмешливым неодобрением излагает самую суть взглядов Соловьева: «Римский папа, Русский Царь Самодержец и хорошее гуманное экономическое устройство: вот что нужно нашему даровитому богослову»[119].
Новая волна чаяний овладеть Царьградом поднялась в России в годы Первой мировой войны[120], и еще одна – в годы Второй мировой войны (что выразилось во временном усилении русского влияния на Балканах, среди южных славян, особенно православных).
В 1990-е годы по мере ослабления российской государственности возникают попытки подавления новоримского достоинства России, и среди них обращает на себя внимание очерк П.Г. Паламарчука «Москва, Мосох и Третий Рим»[121]. Однако вместе с тем стало возрождаться и поникшее было державно-мистическое самосознание Москвы. Появляются новые книги, излагающие римско-русское учение с опорой на всю толщу предания. В этом ряду особенно заметны «Россия перед Вторым пришествием» (сборник упорядоченных С. Фоминым свидетельств и суждений, изданный в 1993 и, повторно, в 1994 годах), а также «Самодержавие духа: Очерки русского самосознания» (1996) – сочинение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна.
[1] Шлегель Фр. Эстетика. Философия. Критика: В 2-х т. М., 1983. Т. 2. С. 132–133.
[2] Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Т. 7. С. 10–12, 24–25, 49–50; Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901. С. 385–400; Знамения пришествия антихриста, по учению Священного Писания и толкованиям святых отцев и учителей Церкви. М., 1912. С. 14–18; Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977. С. 118, 268; Россия перед Вторым пришествием (Материалы к очерку русской эсхатологии). М., 1994. С. 207–219.
[3] Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI в. М., 1984. С. 448.
[4] Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 112.
[5] Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). Киев, 1991. С. 368–369, 421.
[6] Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI в. С. 448.
[7] Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 18, 49–70.
[8] Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 112–113.
[9] Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 133.
[10] Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. С. 22; Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 110–111; Голенищев-Кутузов И.Н. Романские литературы: Статьи и исследования. М., 1975. С. 30.
[11] Булгаков С. Два града: В 2-х т. М., 1911. Т. 1. С. XV.
[12] Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.). С. 270–273.
[13] Цит. по: Брандес Г. Собр. соч. СПб., [1907]. Т. 6. С. 205–206.
[14] Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973. С. 204. См. также: Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма (Фр. Шлегель. Новалис). М., 1978. С. 239.
[15] См.: Спадолини Дж. Европейская идея в период между Просвещением и Романтизмом. СПб., 1993. С. 170–171.
[16] Чаадаев П.Я. Полн. собр. соч.: В 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 237.
[17] Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 40–41.
[18] Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. М., 1989. С. 50.
[19] Лотман М.Ю., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в идеологии Петра I // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 238.
[20] Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI в. С. 436, 440.
[21] Там же. С. 440.
[22] Там же. С. 448.
[23] Там же. С. 450.
[24] Там же. С. 448.
[25] Там же.
[26] Г.Г. Литаврин. См.: Хабургаев Г.А. Первые столетия славянской письменной культуры: Истоки древнерусской книжности. М., 1994. С. 35.
[27] Лотман М.Ю., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в идеологии Петра I. С. 240; Иоанн (Снычев), митрополит. Самодержавие духа: Очерки русского самосознания. СПб., 1996. С. 47–48; Моторин А.В. Святые апостолы Андрей и Петр в русской христианской историософии // Андрей Первозванный – апостол для Запада и Востока. М., 2011. С. 151–156.
[28] Отец Лев Лебедев. См.: Россия перед Вторым пришествием (Материалы к очерку русской эсхатологии). С. 210.
[29] Толстой М.В. История Русской Церкви. Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1991. С. 381.
[30] Рыбаков Б.А. Стригольники (Русские гуманисты XIV столетия). М., 1993. С. 45.
[31] Скрынников Р.Г. Третий Рим. СПб., 1994. С. 40.
[32] См.: Памятники литературы Древней Руси: Конец XV – первая половина XVI в. С. 452, 738.
[33] Памятники литературы Древней Руси: XVII в. Кн. 3. М., 1994. С. 591.
[34] Муравьев А.Н. Путешествие по святым местам русским: В 2-х ч. СПб., 1846. Ч. 2. С. 356–358.
[35] См.: Иоанн (Снычев), митрополит. Самодержавие духа: Очерки русского самосознания. С. 59.
[36] Лотман М.Ю., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в идеологии Петра I. С. 245.
[37] Смирнов И.П. О древнерусской культуре, русской национальной специфике и логике истории. Wien, 1991. С. 184.
[38] Лотман М.Ю., Успенский Б.А. Отзвуки концепции «Москва – Третий Рим» в идеологии Петра I. С. 245.
[39] Карамзин Н.М. Полн. собр. стихотворений. М.; Л., 1966. С. 304.
[40] Карамзин Н.М. Записка о московских достопамятностях // Наше наследие. 1991. № 6. С. 46.
[41] Муравьев А.Н. Письма о богослужении: В 2-х т. СПб., 1993. Т. 2. С. 214.
[42] Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10-и т. Т. 7. С. 272.
[43] Полежаев А.И. Стихотворения и поэмы. Л., 1987. С. 148.
[44] См.: Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. С. 510.
[45] Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи (Мемуары современников). М., 1989. С. 96.
[46] Маркович В.М. Петербургские повести Н.В. Гоголя. Л., 1989. С. 62–68.
[47] Россия перед Вторым пришествием. С. 404–405.
[48] Лермонтов М.Ю. Собр. соч.: В 4-х т. М., 1957–1958. Т. 1. С. 151–152.
[49] Нилус С. Святыня под спудом. Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1991. С. 309–310.
[50] См.: Анцыферов Н.П. Душа Петербурга. [Л.,] 1990. С. 31–140; Исупов К.Г. Русская эстетика истории. СПб., 1992. С. 144–154.
[51] Зеньковский В.В. История русской философии: В 2-х т. Л., 1991. Т. 1. Ч. 1. С. 126.
[52] Шильдер Н. Александр I // Русский биографический словарь. СПб., 1896. С. 141–385. С. 261.
[53] Майков А.Н. Сочинения: В 2-х т. М., 1984. Т. 1. С. 466.
[54] Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10-и т. Т. 2. С. 126.
[55] Там же.
[56] Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. С. 511.
[57] Соболева Н.А., Артамонов В.А. Символы России. М., 1993. С. 170–171.
[58] Вяземский П.А. Стихотворения. Л., 1986. С. 283.
[59] Фет А.А. Полное собрание стихотворений. Л., 1959. С. 92.
[60] Вяземский П.А. Стихотворения. С. 350, 352.
[61] Литературное наследство. М., 1937. Т. 31–32. С. 409.
[62] Там же. С. 405.
[63] Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма: В 6-и т. / Сост. и общая ред. В.Н. Касаткиной. М., 2003. Т. 2. С. 165.
[64] Там же. С. 71.
[65] Там же. С. 99.
[66] Глинка Ф. Сочинения. М., 1986. С. 92.
[67] Там же. С. 108.
[68] Языков Н.М. Стихотворения и поэмы. Л., 1988. С. 351.
[69] Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма: В 6-и т. Т. 2. С. 63.
[70] Фет А.А. Полное собрание стихотворений. С. 365.
[71] Языков Н.М. Стихотворения и поэмы. С. 339.
[72] Майков А.Н. Сочинения: В 2-х т. Т. 1. С. 485.
[73] Карамзин Н.М. История государства Российского: 12-и т. в 4-х кн. М., 1988. Т. 1. С. X.
[74] См.: Русское общество 30-х годов XIX в. С. 32.
[75] Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 189.
[76] «Их вечен с вольностью союз»: Литературная критика и публицистика декабристов. М., 1983. С. 132.
[77] Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения: В 2-х т. М., 1981. Т. 2. С. 451.
[78] Пушкин А.С. Собр. соч.: В 10-и т. Т. 9. С. 54.
[79] Там же. С. 148.
[80] Белинский В.Г. Полн. собр. соч.: В 13-и т. М., 1953–1959. Т. 1. С. 102–103.
[81] Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 93.
[82] Муравьев А.Н. Письма о богослужении. Т. 1. С. 272.
[83] Кулжинский И.Г. О значении России в семействе европейских народов. М., 1840. С. 13.
[84] Глинка Ф.Н. Письма к другу. М., 1990. С. 442.
[85] Одоевский В.Ф. О литературе и искусстве. М., 1982. С. 135–136.
[86] Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30-и т. Т. 23. С. 48.
[87] Прокопович Феофан. Сочинения. М.; Л., 1961. С. 215.
[88] Ломоносов М.В. Полн. собр. соч.: В 10-и т. М.; Л., 1950–1959. Т. 8. С. 557.
[89] Там же. С. 562.
[90] Там же. С. 562–563.
[91] Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. С. 132.
[92] Державин Г.Р. Сочинения. М., 1985. С. 214.
[93] Там же. С. 98.
[94] Шильдер Н. Александр I. С. 215.
[95] Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. С. 215.
[96] Там же. С. 214–215.
[97] Там же. С. 133.
[98] Мятлев И.П. Стихотворения. Сенсации и замечания госпожи Курдюковой. Л., 1969. С. 170.
[99] Россия первой половины XIX в. глазами иностранцев. Л., 1991. С. 677.
[100] Смирнова-Россет А.О. Дневник. Воспоминания. С. 17.
[101] Русское общество 30-х годов XIX века. С. 96.
[102] Хомяков А.С. <Политические письма 1848 года> // Вопросы философии. 1991. № 3. С. 126.
[103] Надеждин Н.И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 250–252.
[104] Литературное наследство. Т. 97. Кн. 1. С. 225.
[105] Там же. С. 223.
[106] Там же. С. 225.
[107] Там же. С. 192.
[108] Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма. Т. 1. С. 200.
[109] Там же. Т. 2 С. 16.
[110] См.: Скатов Н.Н. Литературные очерки. М., 1985. С. 259–260.
[111] Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. С. 189.
[112] Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 23. С. 48.
[113] Там же. С. 49.
[114] Там же. Т. 26. С. 83.
[115] Леонтьев К.Н. Избранное. М., 1993. С. 167–168.
[116] Там же. С. 187.
[117] Там же. С. 286.
[118] Там же. С. 389.
[119] Там же. С. 205.
[120] Россия перед Вторым пришествием. С. 245–251.
[121] См.: Паламарчук П.Г. Москва или Третий Рим? М., 1991. С. 4–39.






